














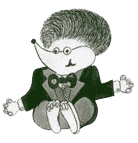
Волгоградские театры
|
Волгоградская оперная антреприза Галина Гридина Нужны ли Джильде кандалы?«Риголетто». «Вечерний Волгоград» |
После долгого перерыва волгоградская оперная антреприза (ныне театр оперы и балета "Царицынская опера") вновь представила на суд местных меломанов спектакль «Риголетто», открыв им одиннадцатый же театральный сезон.
О вердиевском шедевре в постановке москвича Сергея Куницы уже много писано-переписано. Амплитуда зрительских и журналистских оценок - от восторга до полного неприятия. Попробуем разобраться, что же в этом спектакле поистине прекрасно, а что сомнительно с точки зрения вкуса и меры.
 В первую очередь, конечно, прекрасна сама музыка, которую трудно испортить, даже если очень постараться. К чести труппы, артисты и музыканты оркестра во главе с дирижёром Михаилом Аркадьевым изо всех сил стремились как раз не «испортить», а сохранить, бережно донести до слуха публики всё интонационное и гармоническое богатство оперы. Более того, даже текст либретто звучал на родном языке великого итальянского мелодиста. И старания артистов увенчались бы успехом в гораздо бОльшей степени, если бы публика на спектакль пришла подготовленная, хотя бы в общих чертах представляющая, что такое опера. Но большинство зрителей составляли в тот вечер студенты волгоградских вузов, которые не стеснялись болтать в полный голос на фоне оркестрового пианиссимо, входить в зал и покидать его, когда им вздумается, да потягивать из бутылок пиво, как на стадионе. Оригинально дополняли вердиевскую инструментовку и переливы сотовых телефонов. В общем, культура у нашей учащейся молодёжи, как всегда, на высоте. Впору открывать специальный ликбез о правилах поведения в театре.
В первую очередь, конечно, прекрасна сама музыка, которую трудно испортить, даже если очень постараться. К чести труппы, артисты и музыканты оркестра во главе с дирижёром Михаилом Аркадьевым изо всех сил стремились как раз не «испортить», а сохранить, бережно донести до слуха публики всё интонационное и гармоническое богатство оперы. Более того, даже текст либретто звучал на родном языке великого итальянского мелодиста. И старания артистов увенчались бы успехом в гораздо бОльшей степени, если бы публика на спектакль пришла подготовленная, хотя бы в общих чертах представляющая, что такое опера. Но большинство зрителей составляли в тот вечер студенты волгоградских вузов, которые не стеснялись болтать в полный голос на фоне оркестрового пианиссимо, входить в зал и покидать его, когда им вздумается, да потягивать из бутылок пиво, как на стадионе. Оригинально дополняли вердиевскую инструментовку и переливы сотовых телефонов. В общем, культура у нашей учащейся молодёжи, как всегда, на высоте. Впору открывать специальный ликбез о правилах поведения в театре.
Играть спектакль в подобных условиях - если не подвиг, то что-то в этом героическое есть. Потому и не хочется говорить о досадных накладках, вроде плохо натянутого задника с изображением небес или путающихся в длинном шлейфе туфельках певицы. Поговорим о более серьёзных вещах. О качестве исполнения и режиссуре.
 Безусловно, вне конкуренции в этом спектакле Джильда. Хрустальный тембр, безукоризненная чистота интонации, музыкальность, виртуозное владение голосом в любом регистре диапазона - это лишь малая часть похвал, которых достойно вокальное мастерство Анны Девяткиной. Её Джильда способна украсить собой, думаю, не только волгоградскую сцену. Это уровень Большого театра, Мариинки, Ла Скала… Не случайно именно ей предназначались крики «Браво, Девяткина!» и «Спасибо, Анна!». Не случайно искушённые меломаны, покидая Центральный концертный зал после, переговаривались между собой: «Вот послушали Анечку - уже не зря съездили…»
Безусловно, вне конкуренции в этом спектакле Джильда. Хрустальный тембр, безукоризненная чистота интонации, музыкальность, виртуозное владение голосом в любом регистре диапазона - это лишь малая часть похвал, которых достойно вокальное мастерство Анны Девяткиной. Её Джильда способна украсить собой, думаю, не только волгоградскую сцену. Это уровень Большого театра, Мариинки, Ла Скала… Не случайно именно ей предназначались крики «Браво, Девяткина!» и «Спасибо, Анна!». Не случайно искушённые меломаны, покидая Центральный концертный зал после, переговаривались между собой: «Вот послушали Анечку - уже не зря съездили…»
Конечно, большинству «звёзд» провинциальной оперы нелегко соответствовать той высокой планке, что задаёт Девяткина. Тем не менее почти под стать ей оказался Риголетто в исполнении Леонида Завирюхина. В дуэтах с Анной его баритон звучал порой резковато, но знаменитую арию «Куртизаны, исчадье порока…» он спел с такой экспрессией, что у знатоков мороз пробегал по коже.
Обворожительна и на удивление подвижна Наталья Семёнова в роли Маддалены. Ей бы в «Кармен» выдать на сцене такой темперамент - как бы выиграл образ!
А вот с тенорами в наших краях, увы, напряжёнка. Особенно с лирическими. Всем хорош Александр Валиков - и пластичен, и актёр замечательный, и внешнее обаяние налицо, и голос, главное есть, но… К сожалению, это не голос Герцога Мантуанского. Это, может быть, Ерошка в «Князе Игоре», Подьячий в «Хованщине», Мисаил в «Борисе Годунове»… И то - при условии чистого интонирования. Извините, господа, не повезло мне со слухом: он у меня абсолютный.
С чувством ритма мне, видимо, тоже не повезло, поскольку расхождение некоторых солистов с оркестром заставляло морщиться, а хоровые сцены вызывали зубную боль. Попутно замечу, что хоров в «Риголетто» очень мало, и все они весьма несложные. Но хоровое пение - это загвоздка обоих музыкальных театров Волгограда. Когда артист, чтобы просто не помереть с голоду, вынужден одновременно петь в трёх-четырёх коллективах, еле успевая с репетиции на репетицию, тут трудно ждать отточенного ансамбля.
Если бы оперные спектакли состояли из одной музыки, не было бы смысла ходить в театры: включил аудиозапись - и наслаждайся. Но это ещё и сценическое действо, зрелище, плод совместного творчества режиссёра и целой команды художников.
Сергей Куница наделён буйной фантазией и явно тяготеет к символам. Символы эти красноречивы и легко прочитываются (спасибо сценографу Александру Юдину). Задник в виде исполинской паутины успешно ассоциируется с атмосферой интриг и липких сплетен, царящей во дворце Герцога. Кандалы с цепями на запястьях придворных должны объяснить нам, что все они тут рабы, как бы ни хорохорились. Риголетто, попавший в те же самые сети, что он помогал плести, тоже надевает в итоге такие же кандалы. Просто, наглядно, поучительно. Но этого режиссёру показалось мало. Для пущей убедительности он громоздит на сцене дополнительный символ неволи: бутафорскую клетку, которая поднимается и опускается с таким скрипом, что едва ли не заглушает оркестр и солистов. Да и с кандалами он слегка перемудрил, надев их в первом акте ещё и на Джильду, чтобы показать, в какой строгости воспитывает её отец. Может быть, символом всё той же строгости должны были выступить и «ежовые рукавицы» на пальцах Риголетто, навевающие воспоминания об очаровательном Фредди Крюгере из американского «?
В искусстве всё держится на соблюдении меры. Стоит чуть-чуть переборщить - и уже фальшь, уже пошлость. Ничего не имею против присутствия на сцене кровати, но зачем же уж так выплясывать вокруг неё, катать и вертеть её на колёсиках? Образ «койки» начинает доминировать, подминая все психологические нюансы взаимоотношений героев.
 Удачно найдено цветовое решение костюма Джильды: белое платье в первом акте, красное во втором, серое в третьем. Невинность, поруганная честь, депрессия (спасибо художнику по костюмам Илоне Боксер). Но зачем же ещё заставлять массовку перебрасывать в затянутую красным круглую дыру ватные подушечки, так подозрительно похожие на «Олвейз» с крылышками? Зачем заставлять певицу бегать по сцене, размахивая шлейфом, как знаменем? Зачем принуждать её по-рыбачьи тянуть на себя сеть? Вместо сострадания к героине Девяткиной подобные телодвижения вызывают смех. Зато финал второго акта, когда Джильда застывает на ступенях, драпируя себя алым полотнищем, выстроен великолепно и без промаха «бьёт» по нужным эмоциям. Как и финал всей оперы - трагическая фигура Риголетто на той же лестнице, в позе бунтующего раба.
Удачно найдено цветовое решение костюма Джильды: белое платье в первом акте, красное во втором, серое в третьем. Невинность, поруганная честь, депрессия (спасибо художнику по костюмам Илоне Боксер). Но зачем же ещё заставлять массовку перебрасывать в затянутую красным круглую дыру ватные подушечки, так подозрительно похожие на «Олвейз» с крылышками? Зачем заставлять певицу бегать по сцене, размахивая шлейфом, как знаменем? Зачем принуждать её по-рыбачьи тянуть на себя сеть? Вместо сострадания к героине Девяткиной подобные телодвижения вызывают смех. Зато финал второго акта, когда Джильда застывает на ступенях, драпируя себя алым полотнищем, выстроен великолепно и без промаха «бьёт» по нужным эмоциям. Как и финал всей оперы - трагическая фигура Риголетто на той же лестнице, в позе бунтующего раба.
Образ киллера Спарафучиле в обнимку с контрабасом уже получил свою долю яда в рецензиях, так что повторяться не будем. Мизансценически третий акт в целом построен очень выразительно и был бы настоящей режиссёрской удачей, если бы не этот комичный контрабас. И если бы немного по-иному вели себя Джильда и Риголетто в заключительной сцене. Театральная условность, она, конечно, дело святое, но смертельно раненая девушка вряд ли смогла бы подняться во весь рост, и по-настоящему любящий отец пытался бы её поддержать, а не ходил бы со страдальческим видом вокруг да около.
Впрочем, я, кажется, вторгаюсь не в свою епархию. Режиссёру, наверное, видней. Почерк Сергея Куницы весьма своеобразен, он может нравиться или не нравиться, может вызывать споры и отторжение, но надо отдать этому человеку должное: он искренен в своих поисках нешаблонных решений. Необузданный поток художнической фантазии надо всего лишь направить в чёткое русло центральной идеи. Тогда на его поверхности уже не будет крутиться мусор выпендрёжа и дурновкусия - мы получим чистое, ничем не замутнённое искусство.
 Все комментарии (цензурные и по возможности грамотные) рассматриваются в порядке живой
очереди, принимаются к сведению и даже публикуются на сайте. Так что
если тебе есть что сказать по поводу вышепрочитанного - мыль сюда!!! ;)
Все комментарии (цензурные и по возможности грамотные) рассматриваются в порядке живой
очереди, принимаются к сведению и даже публикуются на сайте. Так что
если тебе есть что сказать по поводу вышепрочитанного - мыль сюда!!! ;)